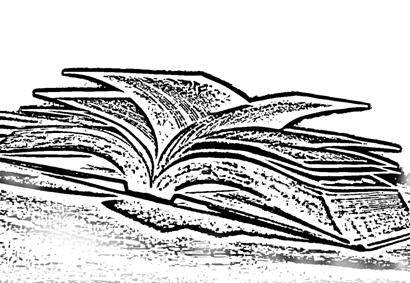Монеты на ладони
Меня
зацепила в её облике несуразная обувь. В городе установилась летняя жара, а на
ногах этой старухи были стоптанные зимние башмаки с порванной молнией сбоку.
Невысокого
роста, чисто одетая, она стояла на боковой улочке, примыкавшей к проспекту, и
что-то жалобно бормотала. Обычно эти слова каждый из нас знает наизусть – так
незатейливо и бессмысленно они повторяются в разных устах, но здесь было что-то
другое.
Я
замедлил шаг и вслушался. Она стояла, прислонившись к огромной стене городского
дома культуры, и просила посчитать монеты на её ладони. Старуха доверчиво
ждала, что кто-нибудь из прохожих поможет ей. Вероятно, она очень плохо видела.
На её носу сидели бессмысленные очки с толстыми линзами, какие-то уж совсем
древние по своему происхождению. Она показалась мне очень беспомощной.
Я не люблю нищих. Почти всегда это профессиональные
обманщики, от которых одна польза: люди, им подающие, сохраняют в себе
небольшое умение доброты. А в остальном… Чумазые восточные дети, тихо сидящие
на асфальте посреди тротуаров и вымогающие у жалостливых русских мамочек
денежку «на молочко», в конце трудового дня накупают себе в киосках не молочко,
а шоколадные батончики и чипсы. Безногие инвалиды в военной форме (якобы
ветераны), протягивающие из своей коляски руку к водителям на перекрёстках,
вечерами привычно погружаются в алкогольный туман самозабвения, чуть ранее и
приведший их в эту самую коляску. О беспомощных цыганках, никак не могущих
запомнить дорогу к вокзалу, даже говорить не стоит… Милостыня да запотеет в
ладони вашей – давняя истина. Не могу не согласиться.
Прохожие
в некотором недоумении обходили старуху, не вполне понимая, чего она от них
хочет. Один из них на бегу посоветовал даже перебраться к церкви или на
центральную улицу, где больше подают. Она же, странная, продолжала стоять у
стены. Я подошёл ближе и взглянул на её морщинистую ладонь: там действительно
лежали монетки, мелочь…
Однако
как я ни старался приглушить свой шаг, она выделила его из общего гула улицы,
встрепенулась и с надеждой повернула голову в моём направлении. Я понял, что
попался, и полез в карман за подаянием.
– Вы не думайте, – разобрал я некоторые из её быстрых
сбивчивых слов, – я здесь не всё время стою. Я плохо вижу, не могу
посчитать, сколько мне люди подали. Скажите, достаточно ли денег?
Старуха
бормотала что-то жалко-благодарственное, пока я осторожно пересчитывал деньги,
лежавшие на её ладони. Сумма была невелика, однако достаточна для того, чтобы
купить нехитрой еды.
– На
хлеб и молоко хватит, – пожал я плечами.
–
Спасибо, молодой человек! Я совсем слепая, ничего не вижу… не могу посчитать…
да, достаточно денег… спасибо, пойду теперь домой… спасибо…
Я
молча кивнул, потом сказал в ответ что-то стандартное и невразумительное и
отошёл.
Вопреки моим ожиданиям, старуха действительно
засобиралась. Когда я остановился у ближайшего газетного киоска, то невольно
обернулся и – уже не увидел её на прежнем месте, она осторожно брела вдоль стен
домов, робко вытянув вперёд одну руку.
Я
подумал, что натолкнулся, вероятно, на один из жизненных сюжетов, которыми так
интересовался мой дед. Он был священником. Жил в глубинке, но духа просветительского
не растерял, даже книгу небольшую написал о провинциальном быте. Я до неё лишь
благодаря случайности и везению добрался, в спецхране экземпляр рукописи
сохранился – я ведь в архиве работаю, вот и воспользовался правом доступа. У
него другая фамилия, поэтому никто бы и не заподозрил. Я сказал, что поступила
просьба от одного известного в наших местах краеведа. Взял сшитые листы в руки
и задумался: каково это – через столько лет общаться с ушедшим? Он бы,
наверное, за многое мог пожурить меня. За язык мой корявый, например. Ну вот
что значит – «работаю» в архиве? Мне ведь не стены класть приходится и не
замки в дверях чинить… Я с удовольствием читал его рукопись. Так и казалось,
что слышу его голос, хотя это и невозможно – он умер до моего рождения. Дед
убеждённо произнёс бы, что правильным является выражение «служу в архиве», и я
бы с ним согласился. Знающий был человек, язык чувствовал. Какие истории в его
рукописи, какие характеры, и как живо всё это рассказано! А вот отец, наверное,
только посмеялся бы. Какая разница, спросил бы…
Иногда
встречаешь в газетах такие сюжеты: то современный божий человек бродит по
городу и читает прохожим свои стихи, то пожилая учительница, которую
собственные дети выгнали из дому, устраивается на ночлег на широких скамейках
детского парка… Пробежит по улицам девочка-журналистка, выхватит прагматичным
взглядом любопытный сюжет и напишет ни к чему не обязывающую историю…
Наверное, я – циник. Наверное… Понимаю, конечно, что
девочка та с диктофоном в руках действительно старается на своём первом
задании, переживает искренне по поводу несовершенства мироздания вообще и
окружающей жизни в частности. Только кто прочитает ею написанное? Разве что те,
кому делать нечего после службы, как мне, например? А что от меня зависит? Я
ведь не чиновник крупный и не губернатор, чтобы влиять на события…
Я
работаю в областном архиве. Служу. Мне нравится это место, здесь не нужно
спешить. Торопливость только душе вредит, как говаривали раньше. И мне
нравится, что время здесь имеет вехи, которые не меняются по сто раз на дню.
Когда я выполняю очередной заказ на поиск прошлого, никогда не приходится
сомневаться в его устойчивости. Рождение детей, браки, сделки купли-продажи –
всё имеет точную дату, точную оценку. И если я через месяц или год снова обращаюсь
к уже знакомым документам, я не теряю уверенности в их постоянстве, в
продолжающемся существовании тех же дат и оценок.
Подходя
к дому, я снова подумал о старухе, просившей пересчитать деньги на её ладони.
Зачем ей это было нужно? У нищенствующих такой опыт в ощупывании денег, что они
и без посторонней помощи могут разобраться, сколько насобирали за день. Или же
она сама себе не верила? Боялась, что мало? Да ведь и разницы не было большой –
три рубля там лежало или четыре… Что же за странное чувство снедало её?
Впрочем,
в мире есть много странного… кто-то верит необычному, кто-то скептически
улыбается… Вот я заметил, что когда заглядываю в своё прошлое, часто удивляюсь.
Расстояние в несколько лет оборачивается непреодолимой границей между мною
настоящим и другой, словно чужой, жизнью. Помню, однажды осенью я пригласил
знакомую девушку, художницу, совершить прогулку в лес. Я опаздывал, и она
терпеливо ждала меня на автобусной остановке, затем мы встретились и пошли в
сторону от дороги по усыпанной листьями тропинке, и у нас были доверие друг к
другу, были слова и фотоаппарат, холодное низкое небо над головой и тепло
внутри. Оглядываясь из настоящего в тот день, я не знаю, почему мы не
сблизились, напротив – отдалились друг от друга после той прогулки. Но ведь
чудесное – было? Удивительное – было?
Наверное, у старухи тоже были особенные моменты прошлого.
Поделился этой мыслью с женой, когда ужинали. Вот представляешь, сказал, стоит она
на улице, а лет шестьдесят назад бегала с пионерским галстуком на шее и мечтала
построить светлый мир на земле, и кто бы мог предположить, что никто не узнает
в ней сегодняшней – ту, из прошлого… (Вот уж моё архивное существование: всегда
задумываюсь о предыстории вместо того, чтобы просто жить. Разумеется, жена
хмыкнула и сказала, что мне думать больше не о чем, ну да я не обиделся, привык
уже…)
А в прошлое заглядывать – интересно! Сидя за письменным
столом, я часто пересматриваю сохранившиеся письма своего деда. Другая жизнь…
Ровный почерк, даже там, где речь идёт о непростых днях в его жизни, сильные
буквы, точность словесного построения… Мы уже так не пишем, эсэмэсками
довольствуемся…
«…Дорогая
моя и любимая Надечка! Пишу тебе с оказией, потому что не знаю, можно ли вообще
сейчас добраться до наших родных мест. В Москве голодные бунты, страшно очень,
укрепляю себя молитвою и памятью о вас. Приезжал Серёжа, у них в имении всё
разорено в прах, разобрали паркет в доме, унесли двери, а постройки надворные –
словно бы смели с лица земли. Очень беспокоюсь за его судьбу. Как он сумеет
устроиться, что станет делать на голоде? Как вы там, как Марья Сергеевна? Ты
писала, что Вера весит 2 пуда
Кто была та Вера, о которой он беспокоился? Наверное,
какая-нибудь знакомая семьи, в те трудные годы всё перемешалось. Сейчас уже не
спросить. А Надечка – это будущая жена деда, тоже совсем юная тогда, оторванная
лихими событиями от него, застрявшая в провинции, когда дед был в столице.
Встретились они лишь спустя месяцы после расставания, а иной месяц тогда к году
приравнивался. И даже странно, что некоторые письма той поры сохранились.
Перечитываю их, во всех – то, для чего ныне и слов подходящих не подобрать,
настолько нынешние слова даже мне, человеку с атрофированным слухом, корявыми и
убогими кажутся. Когда смотрю на строки дедовых писем, всегда думаю: есть же
это в мире – тонкое, нежное, верное… но где?..
Через
несколько дней, возвращаясь со службы, я снова заметил ту старуху у стены
городского дома культуры – массивного красного здания. Толстые каменные стены
словно стирали её в ничто, нависали над её фигуркой, подавляли и заглушали её
голос, неслышимый с расстояния уже в пару шагов.
И всё
же она выглядела не так, как привычные для наших улиц нищие! Я стоял в
отдалении и смотрел на скованные движенья её рук, на робко подрагивающие черты
лица. В ней чувствовалось прошлое. Когда мне встречаются другие, взгляд не
задерживается на них. Никто ведь специально не рассматривает мусорные баки на
помойках, урны возле магазинов, никому нет дела до того, когда они появились,
кем поставлены. Они – простой элемент в привычной картине мира, на который не
обращаешь особенного внимания. Были ли они раньше, не были… Кем они были… За
грязным обликом не увидишь прежних школьников, игравших в мяч, не увидишь
подростков, бегавших на первые свиданья… А в этой старухе чувствовалось нечто –
затаённое, глухое… Может быть, она оказалась случайно потерянной в жизни?
Потерянной – случайно?
Я
смотрел на неё с другой стороны каштановой улицы, издали, чтобы она не
почувствовала моего внимания. Словно бы стыдился, потому что никогда не знал,
как вести себя с нищими, всегда проходил мимо, сторонясь их. И тут вспомнился
вдруг давний разговор, который случился у меня со знакомым. Он переживал период
религиозной увлечённости. Подолгу жил при монастырях, ездил из одной обители в
другую, а возвращаясь, всегда заводил душеспасительные беседы. Ты не думай,
сказал он мне однажды, нищий нищему рознь. Есть, конечно, жулики, которые
доверчивых людей обирают, да что там – таковых большинство, и есть просто
несчастные, обиженные, по Достоевскому – «униженные и оскорблённые»… А есть и
совершенно особенные нищие. Какие это – особенные? Их Господь ставит, чтобы нас
проверить. И от них не откупишься простой монеткой, нужно, чтобы сердце у тебя
шевельнулось…
У меня, наверное, сердце уже отвыкло от такого. В прошлом
веке это объясняли всякими там теориями мирового одиночества да вселенской
скорби. Я далёк от подобных глупостей. В уединённый замок на горе или в хижину
отшельника не собираюсь. Дело в другом, наверное. Не видится мне настоящего
вокруг, вот сердце и молчит, не хочет притворяться. Есть люди худшие и лучшие,
и вещи тоже есть плохие и хорошие. Вытаскивает, например, на улице мужик из
кармана дорогущий мобильник, прикладывает к уху и… лучше бы он рта не открывал!
Такое слышится… убогая речь, убогие мысли… И думаю: почему так, зачем человек
из худших обладает такой вещью? И одежда на нём – дорогая, и обувь, и часы, а
сам ведь – пустышка, совсем не развитое существо. Думает, что придуманной
видимостью он себя приподнимет, так ведь нет – серость серостью и останется.
Мир обманок. Я, наверное, сноб…мало чего на свете осталось, от чего
заволнуешься вдруг.
Я и
женился-то… так, что сердце не шевельнулось ни разу. Поначалу стыдно бывало,
когда наедине с собой оставался, думал: что же это я, зачем и её, и себя
обманываю? – а потом понял, что с её стороны тоже никакой любви не было.
Подруги замуж повыскакивали – завидно, возраст стал на лице проявляться, для
женщины уже критично. Да и статус опять же – или соблазнительный «мать и глава
семейства», или в принципе никому не нужная «самостоятельная бизнес-леди». Так
и живём теперь вместе, без особенных переживаний, всё как у людей. Я в её мир
не лезу, она – в мой не заглядывает…
Старуху
я долго не видел после этого. Нет, она, наверное, стояла там же, где и всегда,
около своей красной стены, но это я – или проходил в другое время, или
вообще возвращался со службы на транспорте. Очень был загружен на работе. К нам
пришёл запрос на ряд документов, касающихся конца пятидесятых, вот я и
занимался их подборкой, копированием, сведением воедино. Сейчас уже схлынула
волна разоблачений, поднявшаяся в перестройку, тогда архивы просто стонали от
наплыва страждущих покопаться в прошлом. Всё поутихло, только
энтузиасты-одиночки живут по-прежнему в тех давних историях, да ещё разве что
«Мемориал» запросы шлёт.
Я
почитал эти документы. Отчего-то не было страшно. Иногда просто грусть находила,
а иногда – другое чувство, странное, лёгкое, будто бы ты сидишь в пустом
кафе и смотришь на того, кто – за другим столиком, и он смотрит на тебя из
своего далёка, и меж вами – звенящая, насыщенная тишина…Меня отец однажды
попросил, когда жив был, посмотреть кое-что. Подошёл, страшно смущаясь, я его
таким никогда раньше не видел, и заговорил о моём деде. Можно ли, спросил,
узнать побольше о нём, теперь ведь это не будет выглядеть подозрительно.
Я не
удивился его слову «подозрительно». Сразу вспомнил, как сам, будучи школьником,
ломал голову над тем, может ли пионер зайти в церковь. Не «ходить» туда – на
службы, более или менее регулярно, а просто – зайти. И друзья мои не
знали. Мы готовились к борьбе за светлое коммунистическое будущее своей страны,
а в клятве пионеров ничего не было про церковь. Странное здание со странной
музыкой изнутри, бабки в чёрном по воскресеньям вокруг… Было любопытно,
конечно, хотелось заглянуть туда хотя бы одним глазком, но останавливало
опасение: ты ведь ничего такого не делаешь, а тебя обязательно заметит
кто-нибудь, потом в школе расскажет – и вышибут тебя из пионерской
организации. Даже двоечники и откровенные дураки ходили в пионерах, а тебя –
вышибут…
Мой дед был сначала просто церковным старостой, потом его
в диаконы рукоположили, потом в священники, это я знал из скупых рассказов
отца. А отец был коммунистом. И он всегда напоминал мне, чтобы я не рассказывал
в школе о том, кем был мой дед.
А
деда я и не знал. Он умер за несколько лет до моего рожденья.
Я
тогда в разных хранилищах почти полгода прокопался. И в Москву пришлось
съездить. Собрал целую папку ксерокопий, которая сейчас лежит у меня рядом со
старыми письмами. В начале тридцатых дед уехал из столицы. Наивно полагал, что
дальше от власти спокойнее жить. Перед отъездом зашёл попрощаться к отцу
Владимиру, с которым столько лет делил горести и радости. Тот, вероятно, с
грустью спросил: «Какой город Вы себе избрали местом жительства?» Дед отвечал,
тоже с грустью, что едет в Козлов. «Ну, что же, езжайте собирать кресты в Козлове»,
– сказал старец. Как же он провидчески прав оказался! По улицам юные ленинцы с
барабаном маршировали, а дед на виду у всех в церковь стал ходить. Так и пошёл
через некоторое время по делу «об укрывательстве и пособничестве черносотенным
церковным деятелям, о создании монархической группировки, ставившей целью
борьбу с советской властью». Вот он – лист из моей папки об этом, всё
занумеровано, оформлено… «Ф.641/1. Оп. 1. Д.
А
церковь, в которой дед был старостой, разорили чуть раньше. Настоятель её, отец
Сергий, и живший при храме инок Лаврентий были арестованы. При огромном
стечении народа сбросили вниз колокола. Раскололи и увезли на подводах в
Липецк. Пока занимались колоколами, часть имущества верующим удалось разобрать
по домам, книги и иконы подавали друг другу прямо в раскрытые окна, чтобы не
тратить времени на беготню взад-вперёд. Деда моего за такую вот книгу и
арестовали. В обвинительном заключении указывалось, что при обыске у него нашли
синодик, в котором для поминовения был записан «император Николай и убиенные
чада его».
Когда
я показал копию этой бумаги отцу, он долго молчал, перечитывая краткий, в
общем-то, текст. Потом выдавил из себя что-то вроде «значит, и такое бывало» и
отдал лист мне. Мне показалось, что я понял его смятение, он ведь никогда не
верил «этим дерьмократам», когда слышал разговоры о репрессиях. История страны
и история собственного отца в его сознании странным образом существовали
раздельно. Будучи пионером, комсомольцем, коммунистом – как все или почти все, он
никоим образом не хотел связывать великие стройки социализма с системой
Главного управления лагерей, но в то же время в его собственной семье не было
одного из родителей. Он не мог признать, что дед – враг народа, но в то же
время он не мог осудить и тот мир, в котором жил. Долгое время относительную
устойчивость его миру обеспечивала мысль об «ошибках», которые допускались. Мир
был светел и прекрасен, незначительные пятна в прошлом были результатом ошибок
отдельных людей. Когда я принёс ему копии документов из архива, эта
спасительная мысль оказалась несостоятельной.
Отец
родился через год после возвращения деда из ссылки. А ещё через год деда снова
отправили по этапу. Соседи донесли, что дед принимает участие в тайных
церковных службах, которые проходили в одном домике. Семья тогда перебралась в
Малоярославец Московской области. В городке было тогда много бывших монахов и
монахинь, изгнанных из закрытых монастырей. Всем казалось, что «железная рука»
советской власти вот-вот окончательно задушит православную церковь.
Устраивались, кто как мог, шли в чернорабочие, посудомойки, выживали
огородничеством. И совершали тайные службы – то в одном месте, то в другом.
Священников на свободе оставалось совсем мало, но некоторые из них, лишившись
своего храма – взорванного ли, закрытого… – ездили по таким домовым церквям и
служили в них. Тогда же дед стал вести свои записи, создавая рукописную книгу о
провинции. Понимал, что никогда не сможет напечатать её, но хотя бы получалось
выговориться в бумагу. Ведь и в окружении проверенных людей иногда находились
доносчики, и тогда следовал арест. Однако это тайное служение было подчас тем
единственным, что ещё можно было делать. Кто знает, как сложилась бы судьба
деда, но началась война – и стране просто потребовались живые рабочие руки.
Вернулся из ссылки дед в сорок шестом. Через знакомых
навёл справки о семье, сам не рискнул показываться. Бабушка, узнав о его
возвращении, попрощалась с немногими друзьями и уехала из Малоярославца в
другую область. За ней в те же места отправился и дед. Так и осталось
неизвестным, почему при последнем аресте не тронули его жену. А ведь многих
отправляли в лагеря вместе с мужьями. Вряд ли, я думаю, пожалели из-за ребёнка,
скорее всего, директива об аресте исходила из столицы, и местным чекистам просто
не хотелось возиться с делами «чужого» подопечного…
Так и жили они потом – вместе да порознь, с разными
фамилиями, боялся дед за семью. Патриарха Сергия избрали, орденами наградили,
дед снова стал служить, но страха своего так и не превозмог. Где два раза было, там и
три будет, а он не хотел ещё и жену с сыном за собой утащить. И бабушка
боялась. Она лишь годы спустя рассказала моему отцу эту семейную тайну. Не то,
чтобы отреклась от мужа, записав сына «безотцовщиной»… С мужем тайно
встречалась, но и о судьбе сына думала, о будущем образовании, о выборе
профессии. Вряд ли бы его куда-нибудь приняли, имей он в графе «родители»
запись «отец осужден по 58 статье»… А так были открыты все пути. Единственное,
на чём настояла она, это чтобы отец пошёл в технический вуз. Хотела верить в то, что там он меньше пропитается духом истмата и
диамата. Хотя и там были свои ноябрьские демонстрации, комитет комсомола,
политинформации первой парой по четвергам… Лишь после смерти мужа бабушка
рассказала, что смогла. А вскоре и сама умерла, потому что переживала сильно,
какая-то трагическая история тогда случилась…
Я закрыл папку с документами и убрал её в ящик стола.
Было уже поздно, жена давно спала, это я засиделся за бумагами. Удивительное
дело – воспоминания! Схватывают тебя и несут в такие дали, о которых ты и забыл
уже. Из-за этого я немного не выспался и ходил весь следующий день сонным.
Впрочем, жизнь всё равно текла по обычному сценарию. Да и чему в ней было
меняться? Утренний «час-пик» на улицах, кофе в половине одиннадцатого, обед в
час, вечерние покупки в супермаркете неподалёку от архива. Обычное
существование – то, что принято в обществе: работа, жена, ребёнок, частично
друзья. Не знаю, как там у других, но у меня всё именно так. Единственное
исключение – нет детей. Когда женились, супруга попросила время для своей
карьеры. Какой смысл нищету плодить, сказала. Подождём немного, она на ноги
твёрдо встанет, и тогда можно подумать. Она в мединституте училась, а затем и
работать начала, там нельзя отвлекаться на постороннее, если хочешь достичь
чего-то.
А
потом мне и сказала, что… Ей ведь уже двадцать девять исполнилось, пора было не
только о карьере помышлять. Да и я снова приступил с вопросом, ну когда же… Она
мне тогда и сказала, что ей нельзя иметь детей. С сердцем у неё что-то.
Так
вот и живём мы с ней. Она дальше своей карьерой занимается, я – тоже, наверное.
Конечно, иногда просыпается обида на неё, и тогда я стараюсь больше гулять по
улицам, встречаюсь с друзьями, чтобы дома не сидеть. Мне теперь не кажется, что
она молчала столько лет из боязни потерять меня. Скорее, из желания сохранить
замужний статус, чтобы было «всё, как у людей», чтобы видимость была. А когда
третий десяток разменяли, куда уж тут дёргаться. Можно, конечно, развестись,
как друзья советовали, да только кто из молодых за тебя пойдёт? А ровесницу
искать – сменишь шило на мыло, все уже одинаковые, стервозностью своей, как
молью, траченные… Иногда я подумываю о том, чтобы просто любовницу себе завести
да ребёнка на стороне родить, но это редко. Так вот и живём мы с ней. Жил бы
иначе, да не знаю, по какому образцу…
А в
то же время и неплохо всё. Возвращаешься домой, хоть кто-то тебя ждёт. Иначе
стоял бы ты в старости на улице да милостыню просил, как та старуха…
Старуху я увидел снова в конце ноября. Она тряслась от
холода, пытаясь укрыться от пронизывающего ветра за будкой уличного сапожника.
Изодранное, когда-то светлое пальтишко давало ей лишь иллюзию тепла. Я положил
в её ладонь монетку и произнёс, наверное, глупые слова о том, что в такую погоду
лучше сидеть дома. Она не узнала меня по голосу, чему я был рад.
Отчего
я тогда не прошёл мимо?
Увидел
на её ногах те самые стоптанные зимние башмаки с порванной молнией, что меня
летом поразили? Или свободного времени у меня было много? Или на меня вдруг
снизошёл дар милосердия?
Вместо
того чтобы пройти мимо, я потащил её к ближайшей закусочной в тридцати метрах
за углом. Купил ей какой-то горячий «быстросуп» в стаканчике и гамбургер, себе
– просто чай. Молодые ребята и девчонки, толпившиеся около залитых светом
витрин и поглощавшие кофе с бутербродами, посмотрели на меня с изумлением.
Старуха расплакалась.
Из её
наполовину бессвязного бормотания я узнал, что идти ей, собственно, и некуда. Ютится
сейчас в каком-то невообразимом углу. Была ещё недавно своя квартира, но
родственники обманули и переписали жилплощадь на себя, а её на улицу выгнали.
Сначала говорили, что не могут слепых дармоедов содержать, заставляли милостыню
просить. А потом просто выгнали. Я спросил про детей, внуков. Она снова
заплакала сухими слезами. Внучка ведь и выгнала. Занялась бизнесом, прогорела,
в долги влезла. Дальше – понятно что… А с сыном она уже давно не общается,
поссорились они когда-то по-крупному.
Вот
тогда и мелькнула у меня мысль о доме престарелых.
Я
узнал, как её полное имя, вложил ей в руку на прощание ещё денег и пообещал,
что постараюсь что-нибудь сделать. И ушёл быстрее, чтобы не слушать
униженно-благодарственного бормотанья.
А оно
мне надо, спросила дома жена, когда рассказал ей о встрече. Это уже не бабка, а
какой-то рок на улице, зловещий призрак. Как увижу её, так она мне голову и
забивает надолго. Чем она интереснее других, таких же с протянутой рукой,
которые по соседним улицам бродят?
Я не знал, что сказать ей, самому было странно. А жена
разумно продолжала говорить о наличии медицинского полиса, необходимого для
оформления в учреждения соцзащиты, о медицинской карте, результатах анализов,
флюорографии, справке о прививках… Откуда всё это взять? И кто я ей – всем
должны родственники заниматься, а со мной и разговаривать никто не станет…
Поэтому
я испытал внутреннее облегчение, когда на следующий день не увидел старухи на
её привычном месте. Возвращаясь со службы, я даже подумывал пройти по другой стороне
улицы, но этого не потребовалось. У красной стены дома культуры маячили чьи-то
чужие, незнакомые фигуры, более развязные и стремительные. От них хотелось
просто отгородиться, и я действительно отвернулся.
Не было старухи на привычном месте и на второй день, и на
третий… Некоторое время я ещё помнил о нашей последней встрече, но вскоре уже
совершенно спокойно проходил мимо красного здания, не опасаясь чего-то
неожиданного. Улицы замело декабрьским снегом, и город лежал чистый и холодный,
а вечерами – шумный и суетливый, залитый рекламными огнями. У всех старые
заботы вытеснялись новыми. Прежние радости сменялись другими радостями. Повсюду
в мире летели в скоротечных днях деловые встречи, мелодии, события,
предновогодние покупки.
От управления культуры нам поступил заказ на подборку
документов, связанных с историей народных праздников. Когда в нашем городе
стали устраивать праздничные гуляния на центральной площади на Новый год?
Ставилась ли огромная ёлка? Какие сцены разыгрывались рядом с ней? Кто принимал
участие в них? Всё это вдруг стало интересовать людей. Русский Дед Мороз
боролся в общественном сознании с заморским Санта Клаусом, песенка про ёлочку
путалась со «звонящими колоколами», после Лапландии сразу же вспоминали Великий
Устюг. Для меня, например, оказалось удивительным открытием то, что некоторое
время новогодний день вообще не считался днём отдыха.
Однажды,
сделав краткую выписку из какого-то документа, я отложил его в сторону и уже
потянулся за другим, как вдруг рука моя сама остановилась в воздухе. Возникло
сомнение, словно бы я что-то упустил из внимания. Я заново просмотрел бумагу:
это было ничем не примечательное внешне сообщение в местный райком от
комсомольского секретаря одного из фабрично-заводских училищ. Молодёжь
устраивала тематический вечер с последующими танцами. Я пожал плечами и убрал
документ в папку хранения. Наверное, задумался о чём-то, бывает… Признаться, я
иногда увлекаюсь и выхожу за определённые начальством рамки поиска. Работу,
разумеется, выполняю добросовестно, но параллельно могу и из собственного
любопытства что-нибудь поискать-почитать. Архив – это целый мир, скрытый от
посторонних глаз.
В тот
день я просидел на работе дольше обычного и решил прогуляться до дома пешком.
Хотелось просто посмотреть на красивую вечернюю суету, подышать свежим
воздухом, дать наконец-то отдых уставшим от чтения глазам. Без особенной цели я
шёл по улицам, любуясь празднично украшенными витринами магазинов и кафе.
Термометр на здании главпочтамта показывал небольшой морозец. Приятными цветами
переливались электрические гирлянды, протянутые по ветвям деревьев. В городе
установилась сверкающая атмосфера всеобщих улыбок, покупок и построения планов
на долгие зимние каникулы. Я шёл, не думая ни о чём конкретно, с наслаждением
впитывая в себя декабрьский вечер.
И вот
тогда я вдруг понял, чтó именно зацепило мой взгляд в комсомольском
донесении, прочитанном пару часов назад. Оно было подписано фамилией, которая
совпадала с фамилией старухи, просившей милостыню. Конечно, на том документе
вместо имени и отчества были лишь инициалы – «К. П. Шумских», но я
почувствовал почти абсолютную уверенность в том, что подпись принадлежала ей.
Было
ли это мистикой, не знаю. Дошли же до меня записи деда! И ведь тоже – из
давнего-давнего времени. Так что ничего сверхъестественного. Однако то был –
дед, а кем приходилась мне она? Чужой человек, с которым лишь несколько раз
сталкивался на улице. Зачем пролегла эта связующая нить между моей настоящей
жизнью и реляцией об устроении комсомольской новогодней ёлки в тридцать шестом
году?
Тем
не менее, я посмотрел ещё несколько документов, в которых могла бы встретиться
знакомая фамилия. В одном из них нашёл подтвержденье своей догадке: да,
действительно, девушку-активистку звали Клавдией Петровной, так было указано в
списке уплативших членские взносы за квартал. Декабрь уже заканчивался, но в
начале января, как только заработали после праздника наши учреждения, я
продолжил разыскания. Это сделалось моей тайной, ибо я никому не говорил о
поисках. Я не сомневался, что речь в немногих документах, попадавших мне в
руки, идёт о ней. В пользу этой версии говорила редкая фамилия, говорил
подходящий возраст. Наконец, она была, несомненно, жительницей нашего города,
так отчего бы и не сохраниться следам её жизни среди многих бумаг архива?! Мне
по-прежнему казалось важным узнать что-либо из прошлого старухи, поразившей моё
воображение, хотя я не представлял себе смысла этих действий.
Так,
штрих за штрихом, картинка за картинкой, медленно, со множеством недостающих
фрагментов, складывалась реконструируемая мной картина её жизни. У неё была
вполне обычная биография. Пионерское детство, приём в комсомол, всякие
мероприятия, работа на заводе, война… Вместе с тем девушка Клава отличалась
целеустремлённым характером, жизненной цепкостью: выйдя из самых низов, она
быстро продвигалась вверх по социальной лестнице.
Я не собирался, конечно, создавать монументальное
исследование в духе серии «Жизнь замечательных людей». Представив себе в общих
чертах начало её взрослой жизни, я переключился на источники наших дней. Там
тоже было всё обыденно. Смерть мужа, выход на пенсию… Кроме того, по какой-то
причине старуха перестала общаться с сыном за многие годы до перестройки, да и
внучка жила с ней относительно недолго. Как ни странно, старые документы давали
мне куда больше информации!
Скорее
всего, я бы так и бросил свои вольные биографические опыты, если бы в одной из
бумаг не промелькнуло упоминание Мичуринска. Мой дед ведь уехал из Москвы
именно туда в тридцатые годы. Просто он сам всегда называл этот город Козловым,
не приняв советского переименования. «Может быть, здесь – смысл?» – спросил я
себя.
Единственная ниточка, за которую я мог потянуть, была,
пожалуй, комсомольская. Клавдия Петровна в автобиографии, составленной в
сороковом для вступления в партию, указывала, что прожила в Мичуринске почти
полгода. Вряд ли бы она стала упоминать в этом серьезном, официальном документе
простую поездку – в гости к родственникам или к подруге. Значит, было что-то
ещё, что-то важное. Я долго мучился над формулировкой своего запроса. Что
именно я хотел узнать? Наконец, составил его и отослал в другую область. Ответ
пришёл через полтора месяца.
Девушка-комсомолка
Клавдия доросла на тот момент до вполне высокого поста третьего секретаря в
горкоме. Это я и сам знал из её автобиографии. И хотя коллеги из мичуринского
архива не отличались многословием, но они кое-что добавили к имеющейся у меня
скупой информации.
Несмотря
на наличие в Мичуринске определённого количества групп юных безбожников и
антирелигиозных кружков, организованных при школах-семилетках и девятилетках,
как следовало из присланных бумаг, политика постепенного вытеснения
бескультурья повсеместно должна была всё более активно сменяться полной его
ликвидацией. Клавдия Шумских как активный участник комсомольского движения была
включена в список мобилизуемых на усиление антирелигиозной кампании. В
Мичуринске, на своём новом месте, она решительно принялась за дело и добилась
определённых успехов, что было отмечено в докладной записке в ЦК. Так,
например, её боевой отряд молодёжи регулярно организовывал атеистические
кинолектории, просветительские диспуты на местных фабриках и в мастерских, а
также принимал самое активное участие в сбрасывании колоколов Воскресенской
церкви.
«Пришло
время, когда колокола церковников должны безоговорочно уступить место заводским
гудкам! – призывала товарищ Клавдия со страниц городской газеты «Красный
пролетарий». – Колокола доставляют огромные помехи нормальному течению учебных
занятий в школах, беспокоят людей в больницах. Колокольный звон буквально
раздирает уши советской молодёжи. Какое счастье, что с каждым годом этот
насильнический звон становится всё тише и тише!»
В
присланном на моё имя конверте лежали ещё несколько ксерокопий, снятых с других
документов, я уже хорошо представлял себе, как этот «боевой отряд» советской
молодёжи собирается ранним утром около местного отделения милиции, как все они,
с шутками и весёлыми песнями, движутся затем к назначенному на заклание храму,
как непременно в этот день светит яркое солнце и как люди на улицах ещё не
знают, что будет происходить через несколько часов. Я представлял себе, как
слегка суетливо, но вместе с тем с подленькой уверенностью в своих силах
рабочие налаживают на колокольне домкрат, привязывают к жертвенному металлу
верёвки, за которые потом потянут собравшиеся внизу «активисты-безбожники».
Выведенный из алтаря священник тоже будет стоять у церкви, ибо ему не упустят
продемонстрировать окончательное наступление светлого будущего, и только затем
его посадят в машину и увезут. Когда последний колокол рухнет на землю,
поднимая тучи пыли вокруг себя, милиция снимет оцепление. На площадь перед
церковью въедут подводы, чтобы грузить разбитый металл и везти его на
переплавку, а толпа ринется к храму, вытаскивая из него книги и иконы. Воскресенская
церковь – та самая, в которой мой дед был старостой.
Я
сидел за своим письменным столом, смотрел в ночное окно и думал о том, как
странно переплетаются людские судьбы. Случайная встреча с нищенкой на улице
обернулась чем-то неожиданным. Её линия жизни, долгая, успешная и в то же время
какая-то жалостливо-убогая, никогда не должна была пересекаться с моей. И
всё-таки – пересеклась. В моей памяти вставал образ старухи – слепой,
трясущейся, забытой даже родственниками, и мне снова становилось жалко её.
Вероятно, увлечённая карьерой, она когда-то забыла о своём сыне. Что значил
отдельный человек по сравнению с великими стройками социализма? Где-то она не
обратила внимания на его школьные проблемы, где-то отмахнулась от проблем
личных, а потом сын вырос и ушёл. Возможно, она пыталась компенсировать своё
упущение чем-то материальным. Дорогие мебельные гарнитуры по спецразнарядке в
спецмагазинах, квартира, полученная по особой очереди, заграничная поездка в
Югославию или Венгрию по партийной линии. Я не знаю всего, могу лишь
предполагать, что сыну это было уже безразлично, зато его дочь с удовольствием
принимала подношения от бабушки, пока та ещё «функционировала» и пока
функционировала система. Это была чужая история, не имеющая для меня смысла.
Или
же всё-таки? Ведь у моего деда тоже могла быть нормальная семья и нормальная
жизнь… И у моего отца… И я бы знал, чтó это такое…
Весною,
на майских праздниках, я съездил в пригородную деревеньку, где последние годы
жизни провёл мой дед. Подумал, что смогу разыскать живых свидетелей его
служения там. Всего-то тридцать или сорок лет прошло.
Никольский
приход, где я очутился, как раз организовывался заново. Молодой священник,
проводивший всё время, за исключением воскресных служб, в поисках кирпича,
труб, рабочих, обрадовался возможности поговорить о делах духовных и пригласил
меня к себе на чай. Пока его матушка хлопотала по хозяйству, он достал из
книжного шкафа большой альбом и стал показывать мне свои сокровища. Отец Сергий
собрал много фотографий, вырезок из газет, письменных свидетельств о жизни
храма и при храме. Конечно, ему пока не удалось очень уж углубиться в историю,
но я не сомневался, что талант краеведа у него есть. Я спросил, не знает ли он,
как был закрыт его храм в годы советской власти. Он, конечно же, знал.
Церковь
закрыли не сразу. За пару месяцев до того председатель сельского совета собрал
толпу и жестоко избил настоятеля. Бесчинствующие жестоко издевались над
священником, прижигали его бороду свечами, взятыми в церковной лавке, и хотели
даже арестовать его по надуманному поводу. После этого было организовано письмо
от общественности, в котором трудящиеся «требовали» закрыть церковь, что и было
сделано через некоторое время, пока священник находился в районной больнице. Из
города приезжала комиссия, из обкома партии, но, разумеется, никаких нарушений
не обнаружила.
– Но Вы не думайте, отче, что Бог ничего не видит! –
сказал мне отец Сергий. – Помните ведь: «мне отмщение и аз воздам»?..
–
Неужели воздалось?
– И ещё
как! Тот, кто церковь громил, хорошо, если просто спился, а не утонул или под
грузовик не попал. А вот Веньку Манжоса вообще парализовало.
–
Венька Манжос – это…
– Это самый председатель сельсовета. Странно – помним же
мы имена геростратов! Забыть бы их, как бесовское наваждение на Руси, так нет,
отчего-то помнятся! И знаете, – внушительно проговорил отец Сергий, – мне
рассказывали, что председатель потом искал избитого священника. Хотел прощения
просить, но не смог, потому что умер тот вскоре. Так и остался он
парализованным.
Я
спросил у отца Сергия, воспылавшего праведным гневом, не знает ли он, что за
комиссия приезжала из обкома.
– Конечно, знаю, – отвечал он, доставая пожелтевшую
вырезку из районной газеты. – Храм ведь потом быстренько в овощехранилище
переделали, а на входе антирелигиозный стенд соорудили. Я газетку разыскал,
которая на том стенде висела. Почитайте, тут и решение комиссии, и фамилия
руководителя её…
Он
очень удивился, когда, не читая вырезки, я назвал ему эту фамилию. И зачем
только мы помним их имена…
Мы
расстались с отцом Сергием почти уже добрыми друзьями. Я обещал ему помочь с
поиском нужной информации, он приглашал меня приезжать на отдых, на свежий
воздух. Я только не сказал, что прихожусь внуком тому священнику. А фамилии у
нас разные, не догадаться.
И
старуху я видел ещё раз. В начале июня она откуда-то возникла на своём старом
месте. Я смотрел издалека на её слепые глаза, скрытые за толстыми линзами, на
её трясущуюся руку с несколькими монетами на ладони и не знал: смогу ли я
когда-нибудь простить её.